Природные ресурсы
Мы не будем рассматривать историю изменения взглядов на количество природных ресурсов в мире и достаточность их для поддержания развития современной цивилизации. В США систематический интерес к этому вопросу начали проявлять в 1950-е годы (Президентская комиссия по ресурсной политике, 1952), в 1960-х годах он получил значительное развитие (Landsberg и Fischman, 1963; Landsberg, 1964; NAS, 1969), а начиная с 1970-х годов, был связан с вопросами энергетики и проблем окружающей среды. Кеннет Боулдинг (Boulding, 1970) призывал положить конец линейной экономике, которая извлекает ресурсы, превращает их в товары и выплевывает отходы – процесс, который он считал по своей сути гибельным. Обеспокоенность мировой общественности по поводу исчерпания минеральных ресурсов, возросшая в 70-х и 1980-х годах (Meadows и соавт., 1972; Barney, 1980; McLaren и Skinner, 1987; Ehrlich и Holdren, 1988), превратилась в спор неомальтузианцев и корнукопианцев (от греч. Cornucopia («рог изобилия») – приверженцы мнения, что исчерпание природных ресурсов в будущем будет компенсироваться новыми технологическими достижениями, что обеспечит непрерывный технический прогресс и рост благосостояния. – Прим. пер. Simon, 1981, 1995) и усилилась в связи с широтой и скоростью экологических изменений в глобальном масштабе. Последний этап этих начался с предсказания неминуемой пика глобальной добычи, за которым последует резкий спад (Campbell, 1997; Deffeyes, 2001; критику пика добычи нефти см.: Smil, 2006a). Тот факт, что не было никакого глобального спада нефтедобычи, и что это вряд ли скоро случится, не остановил общественность от переноса этих опасений на другие ресурсы, особенно когда кажущийся неутолимым спрос Китая на минералы перечеркнул столетие неуклонного снижения стоимости сырья в мире для финансово благополучных потребителей (Sullivan и соавт., 2000; The Economist, 2011). Золото стало одним из последних в этом списке «предпиковой» добычи (Kerr, 2012). На самом деле, этот мем о пике добычи сейчас применяется ко всему: американский журналист Ричард Хейнберг (Heinberg, 2010) заявил, что скоро наступит пик всего, а чуть более сдержанный профессор Майкл Т. Клэр (Klare, 2012) предвидит «конец легкой добычи вообще». Он не говорит о каком-то неизбежном дефиците, но упоминает высокие цены и жесткую конкуренцию между компаниями и странами за сокращающиеся ресурсы. В отличие от этих споров, говорить о которых в долгосрочной перспективе сложно и неконструктивно, краткосрочные перспективы снабжения основными минеральными ресурсами вполне определенны, и писать о них нетрудно. Единственное условие рассмотрения этого показателя – правильно понимать фундаментальное различие между запасами и ресурсами (McKelvey, 1973). Ресурсы – это общая масса материала (элементов, химических соединений, минералов, руды) в земной коре; различают земные и подводные ресурсы. Очевидно, что показатели общего количества ресурсов нам достоверно не известны, и по мере активизации бурения и разведки большего количества месторождений их оценки обычно увеличиваются. Даже если нам были бы известны точные запасы того или иного ресурса, эта информация не позволила бы нам рассчитать время, за которое этот минерал был бы полностью исчерпан: задолго до этого стоимость его добычи с большой глубины и выделения из залежей, в которых он присутствует в мизерных концентрациях, сделает его добычу совершенно нерентабельной. Категория запасов имеет гораздо больший практический интерес: запасы – это доли ресурсов, которые могут быть извлечены из известных месторождений с известными издержками и с использованием имеющихся методов. Это означает, что ресурсы – раз и навсегда данное и окончательное (но плохо известное) число, в то время как запасы – движимые, точно известные, но постоянно меняющиеся совокупные величины: они получаются из ресурсов через инвестиции и технические достижения, непрерывный процесс разведки и применения лучших методов извлечения, добычи и переработки. Полные удельные показатели запасов для страны, континента или всего мира обычно делятся на соответствующие годовые объемы добычи для расчета отношения запасов к добыче. Например, по данным Геологической службы США, отношение запасов к добыче меди в 2011 году составило 42,8 года (USGS, 2013). Это соотношение не означает, что к концу 2054 года на Земле вообще не останется меди. На самом деле, общемировое отношение запасов к добыче этого металла в 1995 и 1980 году было примерно одинаковым, и относительное постоянство этого показателя (и большинства других показателей добычи минералов) означает, что в промышленности поддерживается приемлемый уровень отношения запасов к ежегодной добыче. Другими словами, усилия по переносу минералов из категории ресурсов в категорию запасов обеспечивают добычу с той же скоростью в течение определенного срока: не слишком короткого, чтобы породить неопределенность, но и не слишком долго, поскольку выявление запасов, до добычи которых не доберутся еще сто лет, не имеет никаких преимуществ. К сожалению, оказывается слишком много плохо осведомленных комментаторов, интерпретирующих отношение запасов к добыче как срок исчерпания всех объемов конкретного минерала. В действительности, нашей цивилизации не грозит опасность оказаться без минералов, ни совсем скоро (через несколько лет), ни в ближайшем будущем (через 10–20 лет), ни даже в масштабе жизни среднего человека (60–80 лет). Ресурсы распространенных строительных материалов – песка, глины, камня – огромны, что исключает любые сомнения в их доступности в масштабе сроков существования цивилизации (в течение 103 лет). Обильные ресурсы кремния - материала электронной эры – очевидно, относятся к этой же категории. Выживание миллиардов людей требует применения удобрений для производства достаточного количества продовольствия, а у нас никогда не кончится атмосферный азот, необходимый для производства аммиака. Соединение, которое служит наиболее удобным источником водорода – природный газ – разведывается и добывается во все возрастающих количествах. В последние годы некоторые адепты неомальтузианства начали высказывать озабоченность пиком добычи фосфора (Beardsley, 2011), даже пиком добычи углекислого калия. Возможно наиболее примечательно то, что этот новый страх (об исчерпании запасов минералов вообще и фосфатов в частности) появился в ведущем мировом еженедельном научном журнале Nature, где в рубрике «Взгляд на мир» утверждалось, что: Цены на сырье во всем мире быстро растут. Это настоящий сдвиг парадигмы, возможно, наиболее важное экономическое событие со времен Промышленной революции. Попросту говоря, у нас заканчиваются ресурсы... Нет никаких резервных запасов... надвигается дефицит двух удобрений: фосфора (фосфата) и калия (углекислого калия). Эти два элемента нельзя синтезировать, заменить, они необходимы для выращивания всех форм жизни, и теперь их запасы подходят к концу. Это страшные утверждения... Я не нахожу удовлетворительного ответа на вопрос о том, что будет, когда эти удобрения закончатся, а я, поверьте, искал. Мне видится только один вывод: их использование необходимо резко сократить в ближайшие 20–40 лет, или мы начнем голодать (Grantham, 2012, стр. 303). Я отметил, что Джереми Грантхэму стоило поискать еще совсем чуть-чуть (Smil, 2012). Поиск в Интернете привел бы его к публикации «Мировые запасы и ресурсы фосфатов» Международного центра исследований в области удобрений (Van Kauwenbergh, 2010). Это последнее подробное исследование мировых запасов фосфатов обнаружило, что их хватит на удовлетворение мировых потребностей в удобрениях на следующие 300–400 лет. Аналогичным образом, издание Геологической службы США «Сводка по минеральному сырью» 2012 года содержит сведения о значительных изменениях резервов фосфатов в Марокко, России, Алжире, Сенегале и Сирии и устанавливает мировое отношение запасов к добыче на уровне примерно 370 лет (USGS, 2012). Международная ассоциации производителей удобрений (членами которой являются большинство из наиболее известных производителей и дистрибьюторов удобрений в мире) подчеркнула, что она «не считает, что пик добычи фосфора является насущной проблемой, или что истощение фосфатной породы неизбежно» (выделено в оригинале; IFIA, IFIA, International Fertilizer Industry Association, 2013). Однако в этом заявлении было подчеркнуто, что все «усилия по минимизации потерь фосфора в окружающую среду и оптимизации использования фосфора должны поощряться» – не только потому, что такие усилия позволят сэкономить деньги, но и потому, что чрезмерное применение фосфатов является одной из основных причин эвтрофикации вод. Действительно, призыв к минимизации потерь должен быть общемировым требованием, в первую очередь не из-за каких-либо опасений скорого истощения ресурсов, а поскольку расточительное использование материалов ведет к экономическим и экологическим издержкам. Кроме того (к этому я еще вернусь в заключительном разделе книги), гораздо больших успехов в сокращении применения удобрений можно добиться за счет сокращения среднего потребления мяса на душу населения во всех богатых странах, где удобрения сегодня используются для выращивания не еды, а корма для животных. Что касается углекислого калия, то последнее отношение запасов к добыче, приведенное в отчете Геологической службы США, составляет более 250 лет. Не предвидится и дефицита металлических руд. Геологическая служба США оценивает глобальные запасы железной руды в более чем 80 миллиардов тонн, а ресурсы – в более чем 230 миллиардов тонн, запасы и ресурсы медной руды в 690 миллионов тонн и более чем 3 миллиарда тонн соответственно: в расчете на уровень добычи 2011 года отношение запасов к добыче железных и медных руд составляет 30 и 40 лет соответственно: как уже отмечалось, оно не сильно отличается от того же соотношения 20 или 40 лет назад, несмотря на то, что процессу перевода ресурсов в запасы пришлось догонять массовое увеличение добычи. Примерно такое же отношение запасов к добыче никеля и марганца, и значительно большее – для титана, ванадия и серебра. Редкоземельные металлы в действительности тоже не являются редкими: их содержание в земной коре не так уж и низко, хотя месторождений с концентрацией, достаточной для рентабельной добычи, меньше. Это впечатление редкости создалось из-за того, что Китай почти монополизировал их добычу и на время сократил экспорт. В ответ на это сокращение в Северной Америке, Австралии и Африке произошел всплеск разведки, и открытие новых шахт скоро изменит эту неблагоприятную ситуацию (CCC, 2012). Есть возможности и для замены этих металлов (Holliday и соавт., 2012), и как только Китай начал ограничивать экспорт редкоземельных металлов, японские компании начали более активно исследовать способы их замены и переработки. Компания Hitachi успешно разработала машины, которые могут автоматически извлекать магниты из жестких дисков и компрессоров, а затем вырабатывать из них неодим и диспрозий высокой степени очистки сухим методом (Nemoto и соавт., 2011). Роберт Гордон и его коллеги (Gordon и соавт., 2006, стр. 1213) пришли к выводу, что «нет никакой неотложной проблемы с запасами минеральных ресурсов, достаточных для удовлетворения потребности в геохимически дефицитных металлах». Точно так же после рассмотрения нужд главных отраслей экономики Томас Грэдель (Graedel, 2011, с. 332) обнаружил, что «по меньшей мере в обозримом будущем в мировом масштабе нет никаких значительных проблем в обеспечении энергетики основными металлами». Конечно, эти выводы не исключают возможности роста потребностей в энергии, а, следовательно, и затрат на добычу. Содержание металлов во многих разрабатываемых металлических рудах сокращается уже несколько поколений, в среднем примерно на 1 % в год. Разумеется, содержание некоторых руд в некоторых странах сокращается гораздо быстрее; например, малазийские оловодобывающие компании сегодня имеют в два раза больше отходов, чем двадцать лет назад (Sims и Rusmana, 2011). В результате этого снижения качества руды (кроме алюминиевых и железных руд, изменений в качестве которых не ожидается) в сочетании с растущим спросом Терри Норгейт и Шариф Джаханшани (Norgate, Jahanshahi, 2011) оценивают возможное увеличение энергоемкости мировой добычи основных металлов (Al, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) в четыре раза к 2010 году – от примерно 2 ЭДж в 2010 году до 8,7 ЭДж. С другой стороны, такие расчеты не принимают во внимание дальнейших технических достижений и будущих изменений спроса. Использование золота – пример ситуации, когда рационализация потребления металла может обеспечить спрос на него в важных отраслях промышленности: в 2011 году большую часть спроса на золото составляли ювелирные изделия (48 %) и деньги (41 % в слитках, монетах, медалях), и только 11 % (около 450 т) приходится на промышленность, причем электроника составляла 320 т, или менее 8 % совокупного спроса (Savage, 2013). В предстоящие десятилетия вероятное увеличение спроса на золото в электронной промышленности можно легко удовлетворить, перейдя к более рациональному разграничению конечного использования металла и к почти полной переработке золота из богатых им отходов электрического и электронного оборудования: месторождения аллювиального золота дают 1–5 г золота/т породы, тогда как компьютерные платы дают 250 г/т, а мобильные телефоны – до 350 г/т (Owens, 2013). В любом случае, в долгосрочной перспективе все выглядит иначе, особенно учитывая, что рано или поздно весь мир захочет потреблять столько же, сколько богатые страны в общем (и США в частности) потребляют в последнее время. Например, Роберт Гордон и его коллеги (Gordon и соавт., 2006) оценивают ресурсы меди в мире в 1,6 миллиарда тонн, но обеспечение каждого из 10 миллиардов человек будущего населения мира 170 кг меди (расход на душу населения в Северной Америке в 2000 году) потребует 1,7 миллиарда тонн меди – больше, чем содержится в земной коре по оценкам экспертов. Разумеется, на самом деле потребуется намного больше металла, чтобы восполнить неизбежные потери при использовании и переработке. Авторы предполагают, что для покрытия этой потребности нужно будет добыть весь цинк и всю платину, которые содержатся в литосфере. С учетом сохранения исторических темпов роста потребления можно выполнить аналогичные расчеты, демонстрирующие возможные ограничения ресурсов. Средний уровень потребления меди (общемировое потребление которой до 1900 года составило примерно 10 миллионов тонн) за 50 лет с 1900 года составил: 70 миллионов тонн до 1950 года, 340 миллионов тонн до 2000 года и (если принять рост потребления после 1950 года за 3,3 % в год) 1700 миллионов тонн до 2050 года, что опять же превышает оценки поддающихся извлечению запасов металла. Такие расчеты можно интерпретировать как неопровержимое доказательство приближения катастрофического краха современной цивилизации, а можно – как интересные, но чрезмерно упрощенные упражнения, поскольку разумные предположения (сделанные на основе известных методов, опыт применения которых уже имеется) могут коренным образом изменить их интерпретацию. Количество необходимых материальных запасов можно значительно снизить, уменьшив потребление на душу населения, особенно по мере роста цен на материалы; технические улучшения позволят поддерживать ту же функциональность, используя лишь малую долю материалов; необходимость в новой продукции можно снизить благодаря тщательной переработке – все эти изменения могут значительно сократить ожидаемый рост спроса; население может не достичь ожидаемых отметок к назначенному году; наконец, непонятно, почему именно спрос на материалы на душу населения в Северной Америке или США должен служить другим странам образцом для подражания. Кроме оценки запаса природных ресурсов и среднего спроса на них на душу населения (годового спроса или объема рециркуляции) есть еще три других основных переменных (или ограничения), которые определят будущее материального производства: наши возможности по добыче материалов по доступной цене; степень воздействия процессов использования этих материалов на окружающую среду; а также степень заменимости материала. Последний вариант имеет свои ограничения, заданные эволюцией биосферы: водород, кислород, углерод и азот – незаменимые макроэлементы любой формы жизни, но их доступность обеспечивают глобальные биохимические циклы. Так же в меньшем количестве требуются элементы, необходимые для построения отдельных органов и для обеспечения биохимических процессов: в них входят Ca, K, Na, Mg, Cl, S и небольшие количества Co, Cu Cr, F, Fe, I, Mn, Mo, P, Se, Si, Sn и V. Однако общая масса этих элементов, которая необходима для поддержания жизни на Земле незначительна по сравнению с массой нерудных полезных ископаемых и металлических элементов, добываемых современной цивилизацией, поэтому проблема поиска заменителей распространяется в основном на металлические элементы, которые необходимы в относительно больших количествах, но присутствуют в земной коре либо в относительно скромных концентрациях (в отличие от огромных ресурсов Fe, Al, Ca, K, Mg или Si), либо в менее доступных формах. Медь – прекрасный пример этой категории металлов: она необходима не в таких огромных количествах, как сталь, но, тем не менее, используется во многих потребительских продуктах. Например, средний автомобиль содержит 1,5 км медного провода, а совокупная масса этого металла колеблется от 20 кг в небольшом автомобиле до 45 кг в большом кроссовере (USGS, 2009). Что бы мы делали без добычи новой меди? Переработка отходов в этом смысле не очень перспективна: к концу XX века США извлекли 101,5 миллиона тонн меди, и 16,5 миллиона тонн металла оставалось в отходах производства, главным образом, в отвалах (15,3 миллиона тонн меди в 12 миллиардах тонн отвалов) и шлаках (1,2 миллиона тонн меди в 212 миллионах тонн шлаков) (Lifset и соавт., 2002). Но, как отмечали Г. Геллер и Элвин Вайнберг (Goeller, Weinberg, 1976) десятилетия тому назад, в долгосрочной перспективе медь в электроприборах можно будет почти полностью заменить алюминием, а в конструкционном применении – алюминием, сталью, титаном, пластиками и композитными материалами. Низкие концентрации элементов в породе, повышающие стоимость добычи, перестанут быть проблемой, как только будет освоено высокоэффективное преобразование потоков возобновляемой энергии. В действительности будущие материальные потребности будут определяться множеством динамических связей вышеописанных переменных. Примеров их взаимосвязи очень много. Даже почти полное исчерпание высококачественных месторождений полезных ископаемых не будет поводом для беспокойства, если благодаря новым методам станет возможно добывать ресурсы, добыча которых в прошлом была совершенно нерентабельной). Даже крайне ограниченный ресурсный потенциал (когда ресурс никак нельзя извлечь) перестает быть проблемой, если есть готовый заменитель. Потребление тех материалов, которые доступны в изобилии, может иметь неприемлемые экологические последствия, но и их можно сократить или избежать, заменив материал или значительно изменив спрос на него на душу населения. В последние два-три десятилетия мы уже стали свидетелями начала некоторых таких сдвигов и формирования новых тенденций. На самом фундаментальном уровне произошли некоторые заметные сокращения средних темпов экономического развития во многих богатых странах. В период с 1990 по 2008 год (за год до резкого снижения из-за сильнейшего экономического спада после 1945) совокупный ежегодный рост ВВП составил 2,73 % в США, 2,03 % в Западной Европе и 1,24 % в Японии (IMF, 2013), намного ниже, чем в период с 1950 по 1973 год (год внезапного повышения цен на нефть ОПЕК), когда ВВП западноевропейских стран вырос на 4,79 %/год, США в среднем 3,93 % и Японии – на 9.29 %/год (Maddison, 2007).Это ожидаемое замедление (характеризующее все крупные системы по мере достижения ими зрелости) сопровождается выравниванием и даже небольшим снижением потребления энергии и некоторых основных материалов на душу населения. В 2010 году в США на душу населения в среднем потребление первичной энергии было примерно на 8 % ниже уровня 1980 года, в Великобритании снижение за этот же период составило 9 %, в то время как с середины 1990-х годов в самых разных богатых странах – Италии и Швеции, Франции и Японии – показатели стабилизировались (наблюдались лишь незначительные колебания) (USEIA, 2013). В материальном выражении насыщенность потребления на душу населения, в некоторых случаях с последующим спадом, наблюдается для таких разных товаров, как сталь и цемент. После четырех десятилетий снижения (с колебаниями) показатели потребления стали на душу населения в 2008 году (до падения, вызванного глобальным экономическим спадом) был значительно ниже, чем в 1970 году, не только в Великобритании, но и во Франции и США, и немного ниже в Канаде и Японии (WSA, 2013). Некоторые комментаторы сделали из долгосрочного абсолютного снижения использования материалов в Великобритании далеко идущие выводы, утверждая, что страна уже достигла пика материального потребления (Clark, 2011). Общие материальные потребности (прямые и косвенные потоки) сократились примерно на 21 % за период с 1990 по 2010 год, а прямые материальные затраты за этот же период – на 20 % (ONS, 2012). Материальная производительность Великобритании в эти двадцать лет выросла более чем в два раза, тогда как масса ресурсов по отношению к растущей экономической деятельности снизилась. Однако в эту оценку входят все виды топлива, и поэтому на нее сильно повлиял упадок добычи угля в Великобритании и быстрый переход к углеводородам, а показатель 2010 года отражает неспособность страны восстановиться после экономического кризиса 2008 года. В период с 1970 по 2007 год общие потребности страны в материалах выросли на 16 %. Разумеется, чтобы ясно увидеть долгосрочные тенденции, нужно больше времени. Но нет сомнений в том, что сочетание удельной дематериализации (на единицу ВВП или на душу населения), минимального (или нулевого) роста населения и быстрого старения населения богатых стран все больше и больше будет ослаблять потребность страны в материалах. Среднегодовые темпы роста населения в более развитых регионах уже в 2005–2011 годах составляли всего 0,4 %, а к 2050–55 годам, согласно прогнозам, упадут до нуля; старение населения уже очевидно в Японии и в ЕС, и к 2030 году почти 30 % населения в более развитых странах будет старше 60 лет, по сравнению с 20 % в 2000 году (UNDESA, 2013). В результате будущий экономический рост в богатых обществах может и не потребовать существенных дополнительных материальных затрат, поскольку любые новые потребности, обусловленные умеренным ростом ВВП (1–2 %/год), достаточны для уже в значительной степени насыщенных рынков с медленно растущим (а во многих странах сокращающимся) и стареющим населением будут полностью или в значительной степени удовлетворены благодаря сочетанию дальнейшего снижения средней энергоемкости, удельной дематериализации продуктов и услуг, а также активизации переработки и повторного использования. Страна, внесшая наибольший вклад в рост материального спроса прошлого поколения, Китай, удержит этот рекорд не дольше следующих 20–30 лет: рост ее материального потребления просто обязан замедлиться. В конце концов, в 2010 году эта страна уже потребляла на 36 % больше стали на душу населения, чем ЕС-27, и на 50 % больше, чем США. Недавний пик потребления цемента на душу населения в Китае составил в 2,5 раза больше уровня Японии, более чем в 3 раза больше уровня Германии и США, а в некоторых регионах страны уровень его потребления сравнялся с уровнем потребления в Испании в 2007 году перед упадком испанской строительной промышленности – 1300 кг/душу населения или даже превысил его; во всех странах, где годовое потребление цемента превысило 1 т на душу населения, «строительный пузырь» рано или поздно лопнул (Bell, 2012). Эти реалии необходимо рассматривать, опять же, с учетом замедления темпов прироста и относительно быстрого старения населения страны: к 2040 году в Китае будет столько же людей старше 60 лет, как в Японии в 2010 году (UNDESA, 2013). Конечно, даже учитывая, что совокупные потребности в материалах в богатых странах мира почти стабилизировались, потребление на душу населения стабильно падает, а рост экономики Китая значительно замедлился, у нас впереди по-прежнему остаются десятки лет потенциально высокого спроса на энергию и все виды товаров в Индии и других густонаселенных странах Азии, а также в Африке. Это означает, что (не беря в расчет беспрецедентные стихийные бедствия и длительные экономические спады) мы не увидим значительного снижения общего объема добычи и производства материалов, и что сокращение глобальных темпов роста будет считаться благоприятным в течение следующего одного-двух поколений. Но несмотря на эти ограничения продолжительного (хоть и умеренного) роста материального потребления, есть много шансов внести изменения в этот процесс: повышение эффективности производства, долговечности и простоты переработки материалов с целью обеспечить их длительное использования и максимальную переработку с минимальными последствиями для окружающей среды.
Источник: Создание современного мира. Материалы и дематериализация. Глава 6.



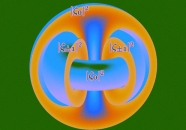


Добавьте свой комментарий