Материалы раннего Нового времени
Раннее Новое время я определяю несколько упрощенно как период с 1500 по 1800 год; при необходимости указать более точные границы этой эпохи, я бы выбрал по понятным причинам 1492 и 1789 годы. Это было замечательное время, в котором смешались остаточные реалии Средневековья и революционные — как мы их сейчас видим — фундаментальные изменения, ставшие основой современного мира. С точки зрения использования материалов по сравнению с прежними годами данная эпоха претерпела некоторые качественные и значительные количественные изменения. В строительстве, как и в ремесленном производстве (все еще главенствующем) новых материалов не появилось; однако постоянно растущие города и увеличивающиеся в размерах океанские суда, все более частое обращение к водяным колесам и ветряным мельницам как источнику энергии, строительство больших крепостей и искусное проектирование и возведение новых каналов, портов и дорог, а также развитие шахтной добычи угля (сначала в Англии и Уэльсе) привели к резкому увеличению спроса на два основных высококачественных строительных материала — дерево и железо; кроме того, возникла необходимость в перемещении еще больших объемов почвы, песка, гравия и камня. В начале Нового времени наблюдались более высокие темпы роста численности населения, начинались процессы урбанизации и протоиндустриализации; именно эти процессы поспособствовали изменениям в картине потребления материалов. Наиболее детальные из доступных реконструкций указывают на то, что за 500 лет с 1000 по 1500 годы население всего мира увеличилось менее чем на 60%, а после этого более чем удвоилось (с 460 миллионов до почти миллиарда) к 1800 году; и тем не менее состояло в основном из сельских жителей, так как в городах проживало менее 5% всего человечества (Klein Goldewijk и соавт., 2010). Во времена протоиндустриализации люди полагались в основном на дешевый труд селян и городских ремесленников; плоды этого труда попадали на национальные или даже международные рынки. В Европе этот процесс затронул некоторые регионы Британских островов (Котсволдс, Ольстер), Франции (Пикардия), Германии (Вестфалия, Саксония и Силезия); в Азии крупномасштабные ремесленные производства были сосредоточены в береговых районах Китая под властью династии Цин, подконтрольной Моголам Индии, а также в городах сёгуната Токугава. Доля товаров производства мануфактур из этих регионов постоянно увеличивалась и на других рынках Азии и Европы. Крупномасштабное ремесленное производство предполагает значительный уровень расхода материалов. Как показывает Мукерджи (1983), вещизм не был следствием индустриализации, так как в некоторых частях атлантической Европы он был вполне очевидным уже в шестнадцатом столетии. На картинах голландских художников золотого века (1581–1701, или попросту весь семнадцатый век) мы видим аккуратные и просторные домики Амстердама, Харлема и Делфта, небольшие, но ухоженные дворики, чистые кафельные полы, большие застекленные окна, стены, украшенные картинами и картами; видим музыкальные инструменты и много хорошо сделанной мебели и качественных постельных принадлежностей. Интерьеры на полотнах Яна Моленара, Питера де Хоха и Яна Вермеера однозначно говорят о комфорте и зарождающемся богатстве голландских бюргеров; все это возникло задолго до того, как европейская индустриализация дала начало массовому потреблению. Более того, владельцы этих домов весьма охотно покупали широкий спектр потребительских товаров: от качественной посуды для приготовления пищи до изысканных одежд, от гравюр до китайского и японского фарфора (у голландцев была монополия на торговлю с сёгунатом Токугава). Главным источником информации о достижениях раннего Нового времени является первая в мире энциклопедия, изданная в период с 1751 по 1777 год под редакцией Дени Дидро и Жана ле Рона Даламбера. В ней содержатся описания и гравюры множества машин, включая сложные замысловатые конструкции, предвещавшие прогресс, достигнутый в девятнадцатом веке благодаря индустриализации (Diderot, D’Alembert, 1751–77). В то же время жилищное строительство оставалось примитивным и неадекватным: даже во Франции шестнадцатого века многие деревенские дома были обычными землянками, покрытыми соломой или камышом, а в городах жилые помещения нередко служили также и рабочими (мастерскими или лавками) или примыкали к ним, как, например, в длинных киотских домах-machiya. Здания также характеризовались плохим отоплением и освещением: основным источником и того, и другого служили камины, которые были неудобными и неэффективными; более эффективные печи (прежде всего немецкие Kacheloffen и голландские/скандинавские плиточные конструкции) за пределами мест своего происхождения распространялись очень медленно. В результате из-за чрезмерного расхода топлива каминами и жаровнями возник огромный спрос на древесину и уголь, необходимые для обогрева растущих городов доугольной эпохи. В Париже спрос на древесину возрос с 400 тыс. лоудов в 1735 до более чем 750 тыс. (порядка 1,6 миллиона кубометров) в 1789 году; уголь тратился в таких же количествах, таким образом, расход топлива на душу населения превышал одну тонну (Roche, 2000). Тесные комнатки сельских домов были нередко захламлены различным инструментарием, и даже в городских жилищах меблировка зачастую была минимальна. Стул, которого в Средневековье в большинстве домов не было (люди сидели на полу, на скамейках, на подушках или ступеньках), стал повсеместным предметом мебели, а вот хорошие кровати все еще были очень дороги: незадолго до 1700 года во Франции стоимость кровати составляла 25% стоимости всей мебели, принадлежащей небогатой семье, и почти 40% всей мебели слуги (Roche, 2000). Даже в семнадцатом веке люди обычно ели пищу из той же посуды, в которой она была приготовлена. Людовик XIV в начале своего царствования (в 1660-х гг.) ел руками, но уже век спустя даже у горожан среднего класса на столах имелось множество разнообразных предметов, предназначенных для конкретных целей, от подставок под яйцо (пашотниц) до чайников. Такой прогресс сопровождался сокращением использования благородных материалов (все меньше и меньше предметов изготавливалось из серебра или хрусталя) и распространением дешевых изделий из повсеместно встречавшихся металлов, фарфора и дутого стекла. С этого изменения и начинается история недолговечных товаров и изменчивой моды. Нищета все еще была обыденным явлением, однако появлялось все больше людей, чей доход позволял удовлетворять не только самые базовые потребности. Как отмечает Роше (2000, с. 77), «новая модель культурного поведения, что зиждется на стремлении к благополучию и достойной жизни, дала о себе знать». Вероятно, ошибка в расчетах или опечатка: если 1 лоуд равен 1,138 кубометра круглого леса или 1,416 кубометра брусьев, то 750 тыс. лоудов составляет 853,5 тыс. кубометра круглого леса или 1,06 млн кубометров брусьев. В некоторых странах стали появляться более основательные жилые постройки, однако принципы деревянного строительства все также соответствовали условиям окружающей среды: в сейсмоопасных регионах люди предпочитали легкие строения, в некоторых частях атлантической Европы и на востоке Северной Америки строили прочные дома из бревен. Японские minka (традиционные дома крестьян, купцов и ремесленников) строились на каркасе из столбов и балок, имели глиняные или бамбуковые стены, раздвижные двери, бумажные перегородки и земляной пол. В результате на строительство minka площадью 100 кв. м зачастую уходило не более 8 кубометров сосны, кедра или кипариса (Kawashima, 1986), в то время как на такой же небольшой скандинавский бревенчатый дом (stock hus) требовалось сто кубометров древесины на стены, двери, потолки, и крышу; на большую немецкую или швейцарскую ферму обычно уходило порядка 1000 кубометров дерева (Mitscherlich, 1963). Древесина также расходовалась на частые ремонты и восстановительные работы. Дерево оставалось незаменимым материалом не только в жилищном строительстве и изготовлении транспортных средств (тележек, повозок, карет, лодок, кораблей), но и — на фоне роста объема выплавки железа в некоторых регионах Европы — в производстве древесного угля для доменных печей (его начали менять на кокс только во второй половине восемнадцатого века и только в Великобритании). Борьба европейских морских держав — Испании, Португалии, Англии, Франции и Голландии — за господство над океаном и сопутствующее этому строительство больших океанских судов, как торговых, так и военных, а также постоянно увеличивающиеся размеры этих судов привели к возникновению беспрецедентного спроса на качественную древесину для корпусов, палуб и мачт. Водоизмещение корабля «Санта-Мария» из экспедиции Колумба составляло примерно 110 тонн, тот же показатель магеллановской «Виктории» — первого в мире корабля, совершившего кругосветное плавание — составил 85 тонн. 70% общей массы этих кораблей приходилось на деревянный корпус, мачты и рангоуты (остальную массу составляли балласт, припасы, паруса, вооружение и экипаж), соответственно, данные суда содержали примерно 60–75 тонн пиленого леса (Fernández-González, 2006). В конце восемнадцатого столетия длина больших двухпалубных военно-морских кораблей (изначально сконструированных во Франции) составляла 54 метра; каждый такой корабль вмещал до 74 пушек и до 750 человек экипажа (Watts, 1905). На строительство такого корабля уходило около 3700 лоудов дуба, то есть порядка 3,4 тысячи тонн древесины при плотности 650 кг/м3 , что примерно в 50 раз больше массы дерева, ушедшего тремя веками ранее на первые парусные корабли, совершившие межконтинентальное плавание. Но так как 60% древесины, привезенной кораблестроителями, расходовалось по дороге (работники верфей забирали себе немного дерева на отопление, на изготовление простой мебели, а то и просто на продажу, см. Linebaugh, 1993), фактически для строительства одного корабля требовалось заготовить более 5 тысяч тонн древесины. Военно-морские корабли раннего Нового времени также прекрасно иллюстрируют все более массовое производство вооружения. В начале шестнадцатого века у типичного корабля было менее 10 орудий; в 1588 году у английских кораблей, разгромивших испанскую Армаду, было в среднем по 12 орудий; к концу семнадцатого века у большого боевого корабля могло быть уже до 100 орудий; в ходе сражения при Ла-Хог в распоряжении британского и голландского капитанов было 6756 орудий (Anderson и Anderson, 1926). Изготовление морских орудий из железа было далеко не единственной причиной возросшего расхода металлов. Спрос на них возрос благодаря увеличивающимся объемам добычи, а также производству все большего количества гвоздей, проволоки, подков и оружия для сухопутных войск. Статистика по Англии дает следующие цифры: в 1700 году было произведено всего около 10 000 тонн чугуна, в 1750 году — уже 26 000 тонн, а в 1800-м — 156 000 (Bell, 1884). На производство железа в небольших домнах уходило огромное количество древесного угля; вкупе с неэффективными технологиями получения угля из древесины это привело к обезлесению тех регионов, где велись работы по выплавке железа. К 1700 году для работы одной типичной английской домны требовалось 12 000 тонн древесины в год (Hyde, 1977). Некоторую передышку леса получили лишь с медленным внедрением металлургического кокса: впервые им воспользовались для растопки доменной печи в 1709 году, но даже в Великобритании он стал основным печным топливом лишь век спустя. Сталь оставалась дефицитным товаром даже в середине XVIII века. В конце 40-х гг. XVII века Бенджамин Хантсман (1704–1776) начал производить литую тигельную сталь путем науглероживания кованого железа, однако тогда этот металл использовался только в очень ограниченных специализированных производствах, например, для изготовления дорогого оружия (знаменитые дамасские и японские мечи), бритв, столовых приборов, часовых пружин, инженерных инструментов (прежде всего — для резки по металлу); качество таких изделий оправдывало высокую цену (Bell, 1884). В Европе продолжали расширять добычу руд всех видов; наиболее значимыми нововведениями в этой сфере отличились Германия, Франция и Италия. Однако самые значительные изменения были связаны с металлами Нового Света, где добыча золота и серебра велась в беспрецедентных масштабах. Высадившись в Америке, Колумб первым делом расспросил местных о золоте, однако по-настоящему судьба улыбнулась испанцам тогда, когда они обнаружили залежи и золота, и серебра в Мексике (Сакатекас), Перу и Боливии (Potosí, 1545). В течение следующих 250 лет испанская монархия обогащалась за счет прямых поставок американского серебра; однако по-настоящему глобальная система обмена возникла благодаря кросс-тихоокеанской перевозке этого металла на Филиппины и затем в Китай (Frank, 1998). Согласно оценкам Барретта (Barrett, 1990), ежегодный приток серебра в Европу вырос с 40 тонн в начале 1500-х гг. до 600 тонн в течение последних четырех десятилетий XVIII века. Ежегодный приток серебра в Азию через голландские и английские компании, торговые каналы Леванта и напрямую из Америки на кораблях, курсирующих по Тихому океану, увеличился с 75 тонн в первом десятилетии XVII века до практически 170 тонн в середине XVIII века. Флинн и Хиральдес (Flynn and Giráldez, 1995) заявляют, что день, когда в 1571 году был основан город Манила (с целью создать первый в истории маршрут для прямой и непрерывной торговли между Америкой и Азией), стал днем рождения настоящего глобального товарного обмена. В XVIII веке также наметился рост текстильного производства, так как первой категорией потребительских товаров, расходы на которую очевидно и повсеместно возросли, стала именно одежда. Эта тенденция зародилась в городах, но постепенно охватила и села, приведя к тому, что Роше (Roche, 2000) называет «унификацией портняжных обычаев». Вертикальные ткацкие станки использовались с античных времен; во многих традиционных обществах Азии и Америки люди пользовались мобильными станками, натяжение нити на которых осуществлялось за счет веса самих ткачей. В любом случае максимальная ширина получавшейся ткани не превышала размах рук ткача; над более широким полотном приходилось работать вдвоем. Ситуация изменилась в 1733 году, когда Джон Кей изобрел летающий челнок, который можно было гонять ударами запястья туда-сюда; самым важным изобретением, ставшим предпосылкой массового производства дешевых тканей, стал появившийся в 1785 году механический ткацкий станок Эдмунда Картрайта (изначально приводился в движение паром). Не менее важным нововведением была и реакция на импорт ситца из Индии, где он производился в городе Каликут с XI века, в Европу. С 1650 года французские мастера стали перенимать индийскую технологию; еще до наступления 1700 года французские и английские мастерские научились производить эту ткань с устойчивой окраской, и технология постепенно распространилась в Нидерландах, Германии, Швейцарии и Австрии. Век спустя производство ситца в Ланкашире уже имело значительные конкурентные преимущества по сравнению с индийскими мастерскими, особенно после изобретения Томасом Беллом печатных валиков и их внедрения в 1785 году (Jenkins, 2003). Вскоре структура международной торговли претерпела значительные изменения: согласно британской статистике, в 1835 году Британия экспортировала в Индию в 169 раз больше окрашенной и неокрашенной ткани, чем импортировала оттуда (National Archives, 2012). Наконец, надо рассказать немного о камне и иных строительных материалах раннего Нового времени. Тесаный камень оставался основным материалом монументальных сооружений, роскошных частных домов и религиозной архитектуры. Величие позднего Ренессанса и римского барокко, пожалуй, лучшим образом иллюстрирует использование камня в строительстве дворцов, базилик, церквей и колоннад по проектам таких мастеров, как Микеланджело Буонаротти, Карло Мадерно, Джан Лоренцо Бернини, Франческо Борромини и Джироламо Рейнальди. Возросшие темпы и масштабы строительства городского жилья открыли новые рынки тесаного камня. Наиболее ярким примером является, пожалуй, рост и застройка Парижа. На протяжении веков известняк лютетского яруса (pierre de taille) добывался в подземных карьерах на окраинах города; однако постоянное расширение городских границ и застройка над выработанными проходами привели к обрушению тоннелей и проседанию грунта (Blanc и соавт., 1998). Жан-Батист Кольбер, который при Людовике XIV был министром финансов Франции (с 1665 по 1683 год), организовал комиссию; которая выяснила, что известняк из карьеров Сен-Максимен в Валь д’Уазе в 40 километрах к северу от центра города практически идеально подходит по цвету основным каменным монументам столицы (Destination Oise, 2013). Этот мягкий камень легко поддается резке, однако довольно устойчив к атмосферным воздействиям, поэтому с конца XVIII века облик Парижа легко узнаваем благодаря массивным фундаментным блокам и тонким фасадным пластинам из известняка нескольких светлых оттенков: от белого до светло-желтого. Первая волна этого большого строительного проекта прошла с 1715 по 1752 г., когда в городе было воздвигнуто 22 тысячи новых капитальных строений, при этом практически каждое пятое новое здание имело port cochère9 (Brice, 1752). Такие темпы строительства удалось превзойти только столетие спустя, когда Осман, перекраивая облик Парижа, воздвиг в этом городе примерно 40 тысяч новых домов с 1853 по 1870 г. (Des Cars, 1988). Но в некоторых частях Европы камень уступил свое доминирующее положение кирпичной кладке при строительстве более материалоемких крепостей, возникших в ответ на улучшившиеся характеристики дальнобойной артиллерии. Обычные средневековые укрепления располагались на небольших площадках, нередко на возвышениях, где строились высокие и толстые каменные стены. Новые крепости были совсем другими — звездообразными многоугольниками (шести- и восьмиугольниками), приспособленными к местности (нередко совершенно ровной), с относительно низкими кирпичными стенами и массивными земляными насыпями, предназначенными для поглощения энергии артиллерийских снарядов, для защиты и маскировки, и в то же время для установления четких секторов для оборонительного огня. Себастьен ле Престр Вобан, военный инженер, дослужившийся до звания маршала Франции, был, пожалуй, наиболее выдающимся архитектором таких укреплений, на возведение которых требовались невиданные количества сыпучих строительных материалов. В течение 40 лет с 1667 по 1707 г. он обновил оборонительные сооружения примерно 300 городов и построил 37 новых крепостей вдоль западных, северных и восточных границ Франции (все они теперь входят в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО); к его проектам относятся цитадель Ле Пале и крепость на горе Луи, город Безансон и островной редут Сен Мартен-де-Ре (Duffy, 1985; Hebbert, 1990). На крепость в Лилле ушло 60 миллионов кирпичей, а на его самый большой проект — укрепления в Лонгви, северо-восток Франции — порядка 640 000 м3 скальной породы и земли и 120 000 м3 кирпича (Anderson, 1988).

Источник: Создание современного мира. Материалы и дематериализация. Глава 2.



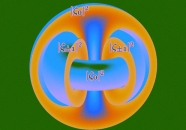


Добавьте свой комментарий