Теория эволюции и программа самоуничтожения
Борис Жуков
За полтораста лет своего существования идея эволюции на основе естественного отбора превратилась из гениальной догадки в глубоко проработанную научную теорию с изощренным понятийным аппаратом, количественными моделями и экспериментальными подтверждениями. Это позволило ей объяснить множество фактов, ранее казавшихся необъяснимыми или не связанными друг с другом. Однако некоторые факты не только до сих пор не нашли своего теоретического объяснения, но и выглядят прямо противоречащими теории — по крайней мере, в ее современном понимании. И одним из таких не поддающихся объяснению феноменов выглядит широко распространенное в природе явление запрограммированной смерти организмов.
Спасительный паразит
Вероятно, все читатели журнала знают о таком драматическом явлении — нересте лососей. Влекомые инстинктом, рыбы заходят из моря в реки и начинают подниматься вверх по течению. Они проползают на брюхе по перекатам, перепрыгивают водопады, их строй так плотен, что кажется, что по их спинам можно перейти реку. Сухопутные и пернатые хищники выдергивают из этой массы одну рыбу за другой, но оставшиеся упорно продолжают свой путь. Наконец, достигнув тех вод, в которых они сами когда-то появились на свет, они приступают к тому, ради чего совершали это трудное и опасное путешествие, — к нересту. Самки мечут икру, самцы поливают ее спермой. А когда последняя икринка или капля семени покинули тело рыбы, в нем включается программа самоуничтожения: одновременно в разных тканях появляются очаги некрозов, они растут, сливаются… и вот уже вниз по течению плывут неприглядные останки того, что совсем недавно было красивой, сильной, полной жизни рыбиной.
Так нерестятся горбуша, кета, кижуч, нерка и другие виды тихоокеанских лососей. А вот у лосося атлантического (более известного нам под именем семги), как говорится, возможны варианты. В наши северные реки зрелые рыбы заходят из моря на протяжении всего сезона — от окончания ледохода до середины осени (а некоторые не вполне созревшие рыбы «занимают места» с предыдущей осени, дозревая в реках целый год). Сам нерест начинается осенью и длится до ледостава. Вскоре после него часть рыб скатывается по течению в море, остальные зимуют в реке и возвращаются в море весной. По дороге к морю и особенно сразу после возвращения в него значительная часть рыб погибает. Однако многие остаются живыми и принимаются восполнять ресурсы, потраченные на нерест (в пресных водах взрослые рыбы ничего не едят и живут только за счет накопленных ранее запасов). Через год или два, сформировав в своем теле новую порцию икры и молок и поднакопив жирку, они снова возвращаются в родные реки, нерестятся еще раз — и снова уходят живыми. Так может повторяться до пяти раз — и, кажется, что этот срок ограничен не столько старением рыбы (такая «многоразовая» семга может жить до 13 лет), сколько малой вероятностью ни разу за все это время не попасться в когти медведю, в зубы тюленю или в рыбачью снасть[i].
Почему одни рыбы гибнут после первого же нереста, а другие могут нереститься многократно? Российский ихтиолог Валерий Зюганов связал это с отношениями, связывающими семгу с двустворчатым моллюском — европейской жемчужницей. (Этот моллюск называется так потому, что именно он служит источником речного жемчуга — который многие, вероятно, видели на одеждах русских князей, царей, вельмож и архиереев, на декоративных переплетах священных книг и других творениях русского средневекового прикладного искусства). У жемчужницы есть расселительная личиночная стадия — так называемый глохидий. Такая личинка имеется у многих двустворчатых моллюсков, но глохидий жемчужницы — паразит. Покинув мантийную полость моллюска-родителя, это микроскопическое (всего 50 микрон в диаметре) существо внедряется в жабры проплывающей мимо рыбы и некоторое время там паразитирует, питаясь за счет хозяина — благо жабры всегда обильно снабжаются кровью. Пройдя определенный путь развития, подросши и сильно изменившись, глохидий покидает хозяина, оседает на дно и превращается в крохотного двустворчатого моллюска. Когда тот вырастет и созреет для размножения, цикл начинается сначала. Глохидии жемчужницы паразитируют в основном на семге (и ее родственнице кумже, также способной к многократному нересту).
Зюганов и его сотрудники обнаружили корреляцию между «многоразовостью» семги и ее зараженностью глохидиями. По его данным, зараженная глохидиями семга становится также более устойчивой к термическому шоку, кратковременному пребыванию вне воды, травмам и так далее. В общем, кому паразит, а кому живой эликсир бессмертия.
Похоже, ушлая личинка наловчилась каким-то образом блокировать у хозяина программу самоуничтожения. Зачем ей это нужно, понятно: в холодной воде наших северных рек развитие глохидия идет медленно и занимает от 8 до 11 месяцев. Если бы сразу после нереста семга умирала, заражать ее не имело бы никакого смысла. (Кстати, на тихоокеанских лососях тоже паразитируют глохидии местных видов жемчужниц, но они успевают завершить эту стадию развития до того, как их хозяин умрет). Загадка состоит в другом: почему это не происходит самопроизвольно, без милосердного вмешательства паразита? С этим вопросом тесно связан другой: а зачем вообще лососям программа самоуничтожения? Как мог возникнуть в эволюции такой парадоксальный феномен?
Вообще говоря, запрограммированная смерть после размножения — явление хоть и нечастое в мире животных[ii], но не уникальное, оно встречается в самых разных группах. Так заканчивают свою жизнь многие насекомые (самый известный и очевидный пример — поденки), осьминоги, некоторые полихеты. Единой теоретической модели — чем именно и при каких условиях может быть выгодна такая стратегия размножения — не существует: для разных случаев обсуждаются разные наборы гипотез, по крайней мере, часть из которых явно неприменима к другим случаям. Так, например, «одноразовость» богомолов предположительно объясняется тем, что это избавляет личинок от конкуренции и прямого каннибализма со стороны взрослых насекомых. (При этом образ жизни богомолов таков, что вероятность повторного успешного спаривания для взрослого насекомого невелика). Считать ли эти объяснения убедительными в случае богомолов — в значительной мере дело вкуса (прямых доказательств их правильности нет), но в любом случае применить их к лососям невозможно: как уже говорилось, эти рыбы в нерестовых водоемах не питаются вообще.
Самое популярное объяснение «одноразовости» лососей состоит в том, что массовая гибель взрослых особей резко повышает трофность нерестового водоема — содержание в его воде доступной для разложения органики, что создает кормовую базу для бактерий, и биогенных элементов (соединений азота, фосфора, калия и так далее), необходимых для развития фитопланктона — микроскопических водорослей. Бактерии и водоросли, в свою очередь служат пищей для микрозоопланктона (инфузорий, коловраток и тому подобных существ), а ими будут питаться вышедшие из икринок мальки лососей, пока не подрастут. Учитывая, что лососи, обычно, в самом деле, нерестятся в водах, крайне бедных органикой, это объяснение можно было бы принять. Однако в случае с семгой это объяснение не годится: даже те рыбы, что умирают после нереста, делают это вдали от нерестилищ — обычно уже в море. Представить же, что бактерии или биогенные элементы самостоятельно поднимаются обратно вверх по течению, как-то уж очень трудно. Однако мальки семги выживают ничуть не хуже мальков горбуши или кеты.
«Казус семги» опровергает и другую версию — что «одноразовость»-де позволяет увеличить долю ресурсов, вкладываемых в потомство, и потому произвести больше икринок или/и обеспечить каждой из них больший запас питательных веществ. Ни число икринок, выметываемых особью за один нерест, ни их средний размер или содержание в них запасных веществ у «многоразовых» и «одноразовых» рыб достоверно не различаются, но при этом поскольку «многоразовые» приходят на нерест неоднократно, то и общее число произведенного каждой рыбой за всю жизнь потомства оказывается существенно больше.
Словом, с какой стороны ни посмотри, получается, что запрограммированная смерть после нереста не только не дает никаких преимуществ, но и наоборот — выглядит явно проигрышной стратегией по сравнению с отсутствием таковой. Как такой механизм мог возникнуть в эволюции — совершенно непонятно. Но это еще полбеды — можно предположить, например, что он возник как адаптация к каким-то факторам, действовавшим во время формирования современных видов лососей, но отсутствующим сейчас.
Настоящая проблема — как этому феномену удается сохраняться сейчас? Как мы уже знаем, любой физиологический механизм, не поддерживаемый постоянно естественным отбором, быстро распадается из-за накопления мутаций. Еще быстрее должен деградировать механизм, против которого работает естественный отбор. Но даже если бы мы этого не знали, достаточно одного того факта, что глохидий как-то блокирует эту программу. Вряд ли он проделывает для этого какие-нибудь сложные многоэтапные манипуляции — скорее всего он эволюционно нащупал какое-то ключевое звено программы, которое можно вывести из строя одним простым действием (скажем, выделив вещество, связывающее какой-нибудь «гормон смерти» — химический сигнал, запускающий разрушение тканей лосося). Но если такое звено существует — оно должно хотя бы изредка ломаться, выходить из строя и без вмешательства паразита, просто в результате мутаций. И тогда особи с такими мутациями должны получить преимущества перед «нормальными» собратьями, обреченными умереть после первого же нереста, и быстро вытеснить их.
Однако этого не происходит. Одни особи семги живут долго и многократно приходят на нерест. Другие живут только до наступления зрелости, а затем, отнерестившись, гибнут. Такое положение существует на протяжении, по крайней мере, сотен поколений, и никто никого не вытесняет.
Те, кто читал книги Ричарда Докинза, вероятно, вспомнят его страстные и убедительные рассуждения о том, что естественный отбор неизбежно должен поддерживать признаки, вредные для вида или популяции, но при этом повышающие вероятность размножения той особи, у которой они появились[iii]. С выводами уважаемого ученого трудно не согласиться — тем более, что в живой природе мы видим множество подтверждений его тезиса. Но вот, оказывается, есть и примеры обратного: по каким бы причинам ни возникла в эволюции проходных лососей программа самоуничтожения, любая мутация, которая ее инактивирует, позволит своему носителю очень сильно увеличить свой генетический вклад в следующее поколение лососей. И если верна гипотеза Валерия Зюганова, это означает, что инактивировать эту программу можно и даже, вероятно, не так уж трудно. Но вопреки всем рассуждениям корифея (и стоящим за ними классическим концепциям социобиологии) мы не видим стремительного распространения в популяции таких мутантов. Почему?
Справедливости ради следует сказать, что гипотеза Зюганова на сегодня хотя и имеет немало сторонников (в том числе и среди европейских зоологов) и получила ряд косвенных подтверждений, но отнюдь не является бесспорной. Некоторые весьма авторитетные ученые (в том числе ведущие российские специалисты по пресноводным жемчужницам) отрицают какую-либо связь способности атлантических лососей к многократному нересту с заражением их личинками жемчужниц[iv]. И в качестве одного из аргументов они приводят примеры конкретных нерестовых рек, в которых жемчужницы не живут, но при этом доля рыб, приходящих на нерест повторно, весьма высока. Но если семга в самом деле может избежать самоуничтожения и без помощи благодетельного паразита — тем более удивительно, почему эта способность не распространилась на всю популяцию.
Феномен многократного нереста семги выглядит загадочным, но при этом уникальным в своем роде случаем[v], курьезным исключением из общего правила. Однако есть и другие сходные примеры. И по крайней мере один из них известен всем.
Полет в никуда
С давних пор люди не могли понять: почему саранча никогда не встречается поодиночке? Почему она может существовать только в виде огромных стай? Откуда берутся эти стаи и куда деваются в промежутках между нашествиями?
Эта загадка саранчи была разгадана лишь около ста лет назад. Замечательный русский энтомолог (и впоследствии кавалер британских орденов Святого Георгия и Святого Михаила) Борис Уваров обратил внимание на то, что в местности, где появилась саранча, не удается найти определенный вид безобидных одиночных кобылок. Как известно, саранча тоже относится к подотряду кобылок — это несколько видов кобылок, способных образовывать огромные стаи и мигрировать на большие расстояния. Однако тех кобылок, которых «недосчитался» Уваров, никто в то время с саранчой не связывал — их относили к другому виду и даже другому роду, хотя и в том же семействе.
Дальнейшие исследования Бориса Петровича показали: все виды саранчи — это лишь иные жизненные формы некоторых видов одиночных кобылок. Если вышедшие из яиц личинки кобылок[vi] слишком часто встречаются с себе подобными (это обычно случается, когда вслед за несколькими благоприятными годами наступает засушливый и расплодившиеся личинки волей-неволей вынуждены стягиваться на «островки благополучия» — чаще всего к берегам водоемов), их развитие резко меняется: они растут быстрее, чем обычные личинки, приобретают другую окраску и (после последней линьки) заметно более крупные крылья. А самое главное — они гораздо активнее, беспокойнее, больше двигаются и испытывают потребность собираться в большие скопления. Процесс идет лавинообразно, по механизму положительной обратной связи: активно двигаясь и кучкуясь, личинки еще сильнее мозолят глаза друг другу — и тем неотвратимее развиваются в саранчу. Часто они трогаются в путь, даже не дожидаясь последней линьки, которая даст им крылья, — и тогда можно видеть огромные стаи (так называемые кулиги) бескрылых «кузнечиков», упорно бредущих в избранном ими направлении. А обретя крылья, эти насекомые поднимаются в воздух и могут улететь за многие сотни километров, сея опустошение. Их поход грозит бедой практически всем обитателям тех мест, где эта стая приземлится: уничтожая почти всю зеленую массу, саранча фактически разрушает местные пищевые цепочки, обрекая на голод местных растительноядных животных, а вследствие этого — и хищников. (Разумеется, в это время ее в огромных количествах поедают все, кто хотя бы в принципе способен питаться животной пищей — от хищных насекомых до домашних овец. Но в каждом конкретном месте этот пир продолжается всего несколько дней, а уничтоженными оказываются плоды как минимум целого вегетационного сезона). Однако и самим саранчукам он не сулит ничего хорошего: те из них, кого не сожрут хищники, не убьют люди, пытающиеся защитить свои посевы, и не забросит ветром в открытый океан, с наступлением осени все равно умрут — так же неотвратимо, как тихоокеанские лососи после нереста.
Правда, с самим «нерестом» дела у стайной саранчи обстоят гораздо хуже, чем у лососей. Хотя во время своих «походных привалов» эти насекомые находят время и для спаривания, оно обычно кончается ничем. Дело в том, что саранча, будучи в гастрономическом отношении практически всеядной (она пожирает не только любые части любых растений, которые только в состоянии сгрызть, но и ткани и другие изделия из растительных волокон), довольно привередлива в выборе мест для откладки яиц. Ей требуется мягкая, достаточно увлажненная почва в местности с жарким засушливым климатом. Такое сочетание условий встречается нечасто и на очень ограниченных территориях (обычно это земли, прилегающие к степным и пустынным рекам и озерам). Вероятность того, что стая, летящая куда глаза глядят, найдет такое благословенное место раньше, чем вся погибнет, невелика. Правда, во время миграций оплодотворенные самки постепенно снижают требования и нередко откладывают яйца в местах, хотя бы отдаленно похожих на нужные. Но как показывают наблюдения, образующиеся таким образом «метастазные» популяции саранчи существуют не более нескольких лет. Иными словами, в генетическом отношении наводящие ужас огромные стаи представляют собой тупик: гены всех входящих в них особей будут практически неизбежно потеряны — если не сразу, то через считанные поколения.
Сама такая «двухипостасная» биология оказалась для науки того времени совершенно ошеломляющим сюрпризом. Но с ее биологическим смыслом поначалу никаких проблем не возникло. В 1921 году, когда Уваров обнародовал свое открытие, эволюцию «по умолчанию» рассматривали как процесс, направленный на благо вида. С этой точки зрения феномен саранчи выглядит как остроумное решение проблемы вспышек численности (за которыми неизбежно следуют распространение болезней, подъем численности хищников, а главное — подрыв собственной кормовой базы). Саранча просто сбрасывает свои «демографические излишки» в другие экосистемы, тем самым перекладывая на них все сопряженные с этим издержки и проблемы. Кроме того, перелетная форма несет и расселительную функцию: если какая-то из мигрирующих стай все-таки наткнется на подходящий для данного вида кобылок, но не заселенный им биотоп, она может его колонизировать. Но это — редкая удача, главное же — что чрезмерно размножившиеся кобылки не сожрут все свои обычные кормовые растения в родных местах. А популяция там восстановится за счет тех немногих особей, которые почему-либо не были вовлечены в самоубийственную миграцию.
Но с точки зрения современных представлений, ставящих во главу угла не «благо вида», а вероятность размножения и перехода в следующее поколение конкретных версий конкретных генов, существование такого механизма попросту невозможно. Любая мутация, выводящая из строя «переключатель» программ развития (как бы он ни был устроен), будет давать своему обладателю огромные преимущества: он не погибнет бесплодно в дальних краях, а останется дома и передаст свои гены потомкам. Причем доля его потомков от общего числа особей следующего поколения, скорее всего, будет весьма значительной, поскольку таких, как он — оставшихся и переживших исход, — будет очень немного. При таких условиях мутанты, неспособные развиваться в саранчу, должны быстро вытеснить обладателей исправного «переключателя». Однако же этого не происходит. И значит, либо мы не заметили чего-то важного (например, жесткого отбора против «постоянно-оседлых» мутантов в периоды между вспышками численности), — либо в наших теоретических представлениях что-то не так.
Факты такого рода часто приводятся в трудах сторонников альтернативных (недарвиновских) эволюционных концепций. Однако в этих работах не предлагается никакого иного, недарвиновского объяснения подобных феноменов. В контексте альтернативных теорий эволюции они выглядят так же странно и загадочно, как и в рамках дарвинизма. Так что корректнее их рассматривать не как некое «опровержение» существующей теории, а как своего рода вызов ей — сформулированную, но пока не решенную задачу. История науки — в том числе и история эволюционной биологии — знает случаи, когда феномен, долгое время остававшийся загадкой, вдруг получал простое и красивое объяснение в свете новых фактов или/и новых гипотез. Так, например, загадка происхождения биолюминисценции (свечения живых организмов), интриговавшая еще самого Дарвина, получила неожиданное и элегантное решение после того, как в палеоэкологии утвердилась идея «кислородной революции» — пережитого в далеком геологическом прошлом превращения биосферы из анаэробной в аэробную.
Но пока загадки, заданные нам семгой, саранчой и другими организмами с подобным жизненным циклом, ждут своего решения.
[i] Атлантический лосось обитает по всей северной Атлантике (и прилегающей к ней части Северного Ледовитого океана) и нерестится в реках от Португалии до западной части Карского моря (а также в Гренландии и восточного побережья Северной Америки). Естественно, сроки нереста и поведение рыб сильно различаются в разных регионах. Чтобы не превращать эту статью в брошюру о биологии семги, далее мы будем ориентироваться на сроки и особенности поведения рыб, приходящих в реки Мурманской и Архангельской областей и восточной Карелии — где нерестится основная часть российской популяции семги.
[ii] В растительном царстве это явление распространено гораздо шире: таков жизненный цикл всех растений-однолетников, а также некоторых видов бамбука и других растений.
[iii] См., например, его образ «Леса Дружбы» из книги «Величайшее шоу на Земле: свидетельства эволюции»: в лесу, где все деревья одинаковой высоты, дерево чуть более высокое получит возможность перехватить часть светового потока у своих ближайших соседей. Такое дерево при прочих равных получит преимущество в размножении. В результате эволюция деревьев неизбежно пойдет в сторону увеличения высоты (и ускорения роста, чтобы достигнуть этой высоты как можно быстрее). Когда эта тенденция упрется в предел физиологических возможностей, все деревья в лесу опять окажутся примерно одинаковой высоты. Если бы они оставались низкорослыми, каждое из них получало бы ровно то же количество света и при этом не тратило бы ресурсов на формирование огромного ствола, на доставку на большую высоту воды и так далее и не несло бы дополнительных рисков, связанных с меньшей устойчивостью к сильным ветрам. Но при всей своей выгодности для леса в целом такое положение не может быть эволюционно устойчивым.
[iv] Вопрос можно было бы разрешить прямым сравнением доли повторно нерестящихся особей в водоемах, населенных и не населенных жемчужницей. К сожалению, такое сравнение провести трудно: на эту долю слишком сильно влияет промысел семги, интенсивность которого для разных рек весьма различна и к тому же не всегда может быть установлена с достаточной точностью.
[v] Можно найти и другие случаи, когда зараженные паразитом особи живут заметно дольше незараженных, но обычно это — побочный эффект так называемой паразитарной кастрации, то есть, подавления паразитом репродуктивной функции хозяина (известно, что исключение репродуктивной функции у многих животных увеличивает продолжительность жизни). В этих случаях паразит не увеличивает, а уменьшает генетический вклад хозяина в следующее поколение. В других случаях паразит может повышать репродуктивный успех хозяина (например, делая его более привлекательным для противоположного пола), однако это достигается не отключением хозяйских генетических программ, а «конструктивной работой» генов самого паразита.
[vi] Напомним, что кобылки, как и все прямокрылые, — насекомые с неполным превращением, и их личинки обликом и строением напоминают взрослых насекомых, отличаясь от них меньшими размерами, несколько иными пропорциями, отсутствием крыльев и недоразвитием гениталий.
Источник: журнал Знание-сила




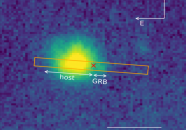
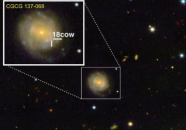
Добавьте свой комментарий