Засунуть повседневность в коллайдер
Считается, что настоящие учёные — это физики. Они построили Большой адронный коллайдер, разогнали частицы до скорости света, столкнули их между собой и проникли таким образом в тайны материи. На самом деле учёные-психологи занимаются примерно тем же самым. Только в свой коллайдер они помещают не частицы, а нашу жизнь. Возьмём такой простой пример, как поездка в метро. Вроде бы ничего особенного: пассажиры, давка, «Осторожно! Двери закрываются»… Но пространство подземки пронизано очень тонкими социально-психологическими материями. Есть нормы, зафиксированные в документах: Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, «Правила проезда пассажиров» и проч. Есть базовые заповеди вроде «не укради». Есть правила приличия: когда зеваешь, прикрывай рот рукой. Но существуют ещё тысячи менее формализованных норм, которые не замечаешь до тех пор, пока их кто-нибудь не нарушит. Можно ли, к примеру, читать стихи Бродского в мясном отделе супермаркета? Или попросить случайного прохожего зашнуровать вам ботинки? Или, скажем, подарить другу на день рождения десять килограмм блинной муки? Ответ однозначный: нельзя, не принято. Это противоречит стандартным сценариям «поведение в магазине», «просьба, обращённая к прохожему», «подарок». Но как устроены эти нормы? Чтобы понять это, психологи действуют точно так же, как и многие физики с биологами — расчленяют объект исследования. В данном случае нарушают нормы.

Мир тесен — это знают все. Но именно Стэнли Милгрэму пришло в голову проверить этот тезис экспериментально.
В конце 1970-х Стэнли Милгрэм читал в университете курс социальной психологии. На одном из занятий речь зашла о неформальных нормах, и чтобы студенты лучше поняли, что это такое, Милгрэм предложил им: «Вы подходите к незнакомому пассажиру нью-йоркской подземки и просто просите уступить место». Поначалу вся группа отказалась: страшно.
Но потом один из студентов всё-таки решился отправиться в метро. И вскоре по университету поползли слухи: «Они встают! Они встают!» Оказалось, что большинство пассажиров (56%) в ответ на ничем не мотивированную просьбу молча уступают место, не выражая при этом никакого протеста.
Спустя много лет этот эксперимент решили повторить московские психологи под руководством доцента ГАУГН Александра Воронова (о нём чуть позже) и его ученицы Татьяны Аль-Батал. Результат был примерно такой же (68%). И даже когда экспериментатор принадлежал к мужскому полу, а пассажир к женскому, цифры не слишком менялись: 62%.
Когда я писал в «Русский репортёр» статью об этом исследовании, то решил сам повторить опыт. Вот мои ощущения:
«Отступать некуда. Сейчас я это сделаю. Захожу. Окидываю взглядом пассажиров. Несколько молодых мужчин — это слишком просто. Девушка лет двадцати — подумает ещё, что я хочу с ней познакомиться… Вот! Женщина в серой куртке. Лицо усталое и решительное. На вид 45–50 лет. Идеально. Иду к ней. Кажется, что на меня смотрит весь вагон. В животе холодно, как будто жабу проглотил. Собираю волю в кулак и произношу: “Извините, вы не могли бы уступить мне место?”
Ух… Я сделал это! Кажется, я даже не успел договорить до конца фразу — а женщина уже встаёт. Ничего не спрашивает, не выражает никаких эмоций. Я сажусь на краешек скамьи. В соответствии с инструкцией начинаю отсчитывать время. Один, два, три… кажется, весь вагон смотрит на меня с презрением… четыре, пять, шесть… женщина, уступившая мне место, стоит себе спокойно, внимания на меня не обращает… семь, восемь… такое ощущение, что скамейка, на которой я сижу, очень холодная… или, наоборот, раскалённая?.. девять, десять. Ура!


Я вскакиваю и кидаюсь к женщине. Вместо развёрнутого объяснения мямлю что-то вроде: «Ммм… это, простите, того… был эксперимент». Женщина садится на своё место так же спокойно, как и вставала. А я, расталкивая пассажиров, кидаюсь в дальний угол вагона. Стараюсь спрятаться от всех. Как только поезд останавливается, выскакиваю наружу, хотя ехать мне ещё три станции. Стою на платформе. Кажется, у меня очень красное лицо…»
Или вот другой способ расколотить обыденность на элементарные составляющие. Мир тесен — это знают все. Но именно Стэнли Милгрэму пришло в голову проверить этот тезис экспериментально. Выбирался ничем не примечательный гражданин, допустим биржевой маклер из Бостона, или жена одного из студентов-психологов. А дальше самым разным американцам по всей стране, не знакомым с этим человеком, ставилась задача — передать ему некое послание.
Участникам сообщалось:
«Помните, что цель — продвигать эту инструкцию по направлению к искомому лицу, используя для этого только цепочку друзей и знакомых. Сперва у Вас, возможно, возникнет чувство, что Вы не знаете никого, кто знаком с искомым лицом. Это естественно, но по крайней мере Вы можете направить поиск по верному пути! Кто из Ваших знакомых может, предположительно, вращаться в тех же самых кругах, что и искомое лицо? Единственная реальная трудность — определить, кто из ваших друзей и знакомых может стать надёжным передаточным звеном. Возможно, искомое лицо будет найдено в несколько промежуточных этапов, но главное — не кратчайший путь, а непрерывность движения! Человек, который получает эту инструкцию, повторяет описанную процедуру, и так происходит до тех пор, пока инструкция не будет вручена искомому лицу. Можем ли мы попросить Вас приступить к делу?»
Эксперименты Стэнли Милгрэма всегда на грани науки и чего-то иного: притчи, театра, перформанса.
Выяснилось, что средняя цепочка между двумя произвольными людьми составляет 5,5. И тут важна не столько сама цифра (хотя она впечатляет — мир действительно тесен!), сколько метод.
«Наиболее важное достижение этого исследования состоит в том, что оно (хотя многие люди ведут разговоры о тесноте мира и даже теоретизируют по этому поводу) представляет собой, насколько мне известно, первую попытку установить связи, соединяющие людей, выбранных случайным образом из большой популяции общенационального масштаба», — с гордостью писал Милгрэм.
А ещё… Незадолго до своей смерти (а умер он очень рано, в 51 год) Милгрэм провёл серию экспериментов с «сираноидами» — от Сирано де Бержерака, героя пьесы Ростана, который вкладывал свои слова в уста косноязычного Кристиана, помогая тому завоевать сердце красавицы Роксаны.
Вот как это объяснял сам Милгрэм (цит. по «Эксперимент в социальной психологии». — СПб: Питер, 2000):
«Сираноиды — это люди, которые высказывают мысли, не являющиеся порождением их собственной центральной нервной системы; или, выражаясь точнее, произносимые ими слова возникают в головах других людей и передаются ими сираноиду посредством радиотрансляции. Сираноид принимает эти слова с помощью крошечного радиоприёмника, к которому подсоединён миниатюрный наушник, спрятанный в его (сираноида) ухе. Сираноиды производят впечатление людей, принимающих участие в обычном разговоре, однако на самом деле они заняты чем-то совершенно иным: они лишь слово в слово повторяют то, что передаётся им по радио. Какое бы слово ни изрёк сираноид, оно не принадлежит ему самому и в этом смысле не является подлинным. Сираноиды лишь озвучивают речь своих “подсказчиков”, которые, подобно Фрэнку Моргану из “Волшебника страны Оз”, располагаются в соседней комнате и торопливо наговаривают в микрофон свои слова, внимательно вслушиваясь в беседу, чтобы вовремя подать сираноиду соответствующую реплику».
Тут возникает много вопросов. Как отличить «настоящего» человека от марионетки? В какой степени мы можем разглядеть естественное поведение человека и его действия под давлением внешних обстоятельств? Где границы человеческого «я»?..



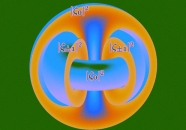


Добавьте свой комментарий